Теги: Москва, памятник, скульптурная композиция, "Трагедия народов", жертвы, память,
"Трагедия народов"

"Трагедия народов" - "Да будет память о них священна, да сохранится она на века".
Другие фотографии на ФотоКто: ← улыбайтесь господа | Цветение абрикоса →
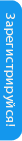










Скульптурная композиция представляет собой огромную вереницу людей. Все люди и взрослые, и дети обнаженные, лысые, измученные и изможденные пытками в фашистских лагерях. Молчаливая, обреченная очередь за смертью. Впереди - трое: женщина, мужчина и ребенок-подросток. Они покорно ждут своей очереди, и лишь женщина закрывает рукой глаза ребенку, чтобы тот не видел всего ужаса. А мужчина пытается защитить его, закрывая рукой грудь ребенка. Рядом с фигурами людей лежит снятая одежда и детские игрушки.
Нагие люди, тонкие и хрупкие, темными силуэтами вонзаются в небо. Фигуры словно бы заваливаются назад и в конце концов переходят в камни, сливаются с прямоугольными гранитными стелами, на которых вырублена одна и та же надпись на разных языках народов СССР: "Да будет память о них священна, да сохранится она на века".
Скульптор - З.К.Церетели.
Дата установки - 1997 год.
Высота - около 8 метров.
Бессмертна только память на века.
И пусть, сегодня, их в строю не будет,
Их подвиг не забудут никогда!!!!
Когда еще белела мгла.
Там были женщины и дети
И эта девочка была.
Сперва велели им раздеться
И встать затем ко рву спиной,
Но прозвучал вдруг голос детский
Наивный, чистый и живой:
Чулочки тоже снять мне, дядя?
Не осуждая, не браня,
Смотрели прямо в душу глядя
Трехлетней девочки глаза.
«Чулочки тоже» — и смятеньем на миг эсесовец объят
Рука сама собой с волненьем вдруг опускает автомат.
Он словно скован взглядом синим, и кажется он в землю врос,
Глаза, как у моей дочурки? — в смятенье сильном произнес
Охвачен он невольно дрожью,
Проснулась в ужасе душа.
Нет, он убить ее не может,
Но дал он очередь спеша.
Упала девочка в чулочках…
Снять не успела, не смогла.
Солдат, солдат, что если б дочка
Вот здесь, вот так твоя легла…
Ведь это маленькое сердце
Пробито пулею твоей…
Ты Человек, не просто немец
Или ты зверь среди людей…
Шагал эсэсовец угрюмо,
С земли не поднимая глаз,
впервые может эта дума
В мозгу отравленном зажглась.
И всюду взгляд струится синий,
И всюду слышится опять,
И не забудется поныне:
Чулочки, дядя, тоже снять?»
\автора не знаю\
Рассказ Агриппины Куликовой
Глаза воспалены. Красивые черты
избороздило, иссушило время.
Ей трудно говорить. То приступ тошноты,
то ломит грудь, то больно ноет темя.
Превозмогая боль и кутаясь в платок,
она рассказывает глухо, но раздельно.
И горек тихих слов ее поток,
и чувство гнева беспредельно:
- Сынки мои! Уж очень я стара.
Седьмой десяток лет перемахнула…
А в этот самый день, с утра,
я, как на грех, взяла да прихворнула.
Лежу, родимые, одна в избе.
Темнеет. За окном мокропогодит.
Лежу одна и чую по стрельбе,
что наши за околицу отходят.
«Неужто, – думаю, – не выйду из села?
Зажгу избу и двинусь понемногу» .
И поднялась. Соломы принесла,
обула валенки на босу ногу.
Легко ли рушить мирный свой очаг!
Стою, гляжу… В руках трясутся спички.
Перекрестилась трижды вгорячах,
не то чтоб так, а больше по привычке.
Одно беда: уж больно я стара!
Пока я за соломой – то ходила,
фашисты вот они. Бормочут у двора.
Ко мне валит чумная вражья сила.
Берет меня за горло офицер:
- Давай нам масла, молока и чаю! –
«Не масла, думаю, тебе, а сто холер» .
- Нет молока и масла! – отвечаю.
Взъярился офицер. Завыл, как дикий волк,
трясет своим тяжелым пистолетом.
А что трясти? Какой в угрозе толк?
«Врешь, думаю, не выедешь на этом» .
Ударил раз меня, потом еще, еще.
Одежду рвет. Плюется то и дело.
Схватил за волосы, толкнул меня в плечо.
В глазах моих, сыночки, потемнело.
Не помню, как я дотянула до зари.
Забрали немцы все мои пожитки:
половики, подушки, сухари –
все загребли до капельки, до нитки.
На этом бы и кончить мне рассказ,
казалось бы, уж сказано немало,
да упредить должна я сразу вас,
что это не конец, а лишь начало.
Я вышла.
Постояла за крыльцом.
И слышу вновь надрывный вой немецкий.
Гляжу:
стоят разбойники кольцом,
а посередке наш боец советский.
И тут же рядом, у плетней витых,
три наших деревенских человека:
Две бабки древних, хилых и слепых,
да мой сосед, Илья Линьков, калека.
А немец тот, что бил меня в дому,
сидит, как на престоле, под скворешней.
- Чей, – спрашивает, – сын? Кто родственник ему? –
А что сказать, когда боец не здешний.
Быть может, тульский он, а может, из Ельца,
не все ль равно: одна любовь и вера.
Вдруг вырвался сердечный из кольца
да как наотмашь хватит офицера!
Качнулся тот и скувырнулся с ног,
и угодил затылком – то о бревна.
Я не сдержалась.
- Мой, – кричу, – сынок!
Мой золотой, единственный и кровный! –
Схватили тут меня – и под гору силком.
И паренька, что я назвала сыном.
И завалили нас обоих ивняком,
и облили обоих керосином.
«Ну, думаю, приходит наш конец! »
Да тут, вишь, самый бой – то и начался…
Прогнали немца, немец вспять подался.
Я вот жива, а раненый боец,
слыхала я, не выдержал – скончался. –
Умолкла Агриппина. Поздний час.
На миг нам кажется, что мы внезапно глухи.
Озноб и гнев охватывает нас,
услышавших рассказ седой старухи.
Мы в восхищении рядом с ней стоим.
Мы принесли ей сахар, хлеб и сало.
Мы за тебя, родная, отомстим!
Мы все сынки твои. Ты правильно сказала.
Вечная память!
Нас двадцать миллионов
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.
Есть у войны печальный день начальный,
А в этот день вы радостью пьяны.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.
Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.
И пусть не покидает вас забота
Знать волю не вернувшихся с войны,
И перед награждением кого-то
И перед осуждением вины.
Все то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.
Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством равны
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Где в облаках зияет шрам наскальный,
В любом часу от солнца до луны
Бьет колокол над нами поминальный
И гул венчальный льется с вышины.
И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в расчет,
Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет.
Будь отвратима, адова година.
Но мы готовы на передовой,
Воскреснув,
вновь погибнуть до едина,
Чтоб не погиб там ни один живой.
И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.
Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству
сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.
Каких имен нет на могильных плитах!
Их всех племен оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Падучих звезд мерцает зов сигнальный,
А ветки ив плакучих склонены.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.
<Перевод Я.Козловского>